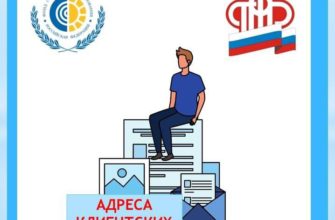Издревле святитель и чудотворец Николай почитался на Руси защитником и покровителем путешественников и мореплавателей. «Николушка, выноси», – молвили они в трудную минуту, осеняя себя крестным знамением. Множество храмов во имя св. Николая Чудотворца выстроено православными и даже время исчисляли «от Николы до Николы». Один из таких храмов – большой, восхитительно-красивый – находился и в Вязниках и входил в соборный комплекс на Базарной площади.
Никольская церковь в Вязниковской слободе упоминается ещё в 1622 году, куда была приложена икона Казанской Божией Матери, написанная старцем Николо-Шартомского монастыря Иоакимом.
Позднее в конце XVIII столетия была построена тёплая каменная церковь в честь святителя Николая, которая к середине XIX века была закрыта. В августе 1864 года её начавшие трескаться и осыпаться стены и своды осмотрел архиепископ Владимирский и Суздальский, будущий затворник Феофан (Говоров). Отметив опасность проведения здесь богослужения, он выразил надежду на постройку нового зимнего храма или, хотя бы, на основательный ремонт этого уже ветхого церковного здания.
Служба в этой церкви так больше и не совершалась, а через десяток лет её сломали вовсе.
Вопрос о богослужениях в зимнее время (неотапливаемый Казанский собор не подходил для этого) оставался открытым. Осенью 1865 года в градской Думе собралось духовенство, отцы города и представители «вязниковского обчества» с мыслью о возведении новой зимней церкви. Соборные священники предоставили 40 тысяч рублей церковного капитала, однако было ясно, что этих денег явно недостаточно. И тогда расходы на постройку взял на себя вязниковский 1 гильдии купец мануфактур-советник Осип Осипович Сеньков. 13 июля 1866 года Владимирской духовной консисторией было дано разрешение на строительство нового храма.
Довольно быстро стали расти стены будущей церкви и постепенно вырисовываться очертания нового здания. К осени 1872 года церковь была возведена и покрыта кровлей. Продолжались внутренние и наружные отделочные работы, у лучших мастеров заказаны иконостас и прочие элементы храмового декора.
14 октября 1872 года в Москве скончался храмоздатель Осип Сеньков и появились опасения в том, что зимний храм если и будет завершён, то сроки окончания работ отодвинутся в далёкое будущее. Однако, наследники вязниковского купца и в первую очередь вдова покойного – Анна Дмитриевна – взяли на себя оставшиеся расходы, и ещё через два года храм о девяти главах, увенчанных золочёными по древнему способу «чрез огонь» крестами, был завершён.
Освящение зимнего собора было назначено на двухлетнюю годовщину кончины храмоздателя. В час дня 13 октября 1874 года с колокольни Троицкой ярополчской церкви наблюдавший за железной дорогой пономарь ударами в колокол возвестил город о прибытии с поездом архиепископа Владимирского и Суздальского Антония (Павлинского) и владимирского губернатора генерал-лейтенанта Владимира Николаевича Струкова в сопровождении духовенства и чиновников.
Базарная площадь и церковная ограда были заполнены. Высоких гостей у Святых врат встречал соборный причт с протоиереем Иваном Аввакумовичем Павлушковым во главе. Владыка осмотрел новый храм и после отдохновения в Благовещенском монастыре, принял участие во всенощном бдении. На отдых Антоний удалился в монастырь, где в настоятельских покоях ему была устроена квартира.

Утром 14 октября состоялось освящение главного престола во имя святителя и чудотворца Николая, после которого архиепископ посетил дома протоиерея Павлушкова и соборного старосты Михаила Тараканова. Этот вязниковский купец слыл в городе и округе храмовым покровителем, щедро жертвуя на украшение уездных и градских церквей. Конечно, его состояние не могло сравниться с капиталом Сеньковых, но радение Михаила Григорьевича о церквах было известно всем, создавая ему среди земляков доброе имя. Будучи с 1870 года в должности старосты, хлебный торговец Тараканов не раз отмечался епархиальным начальством. Для строящегося нового собора он приобрёл церковной утвари на 200 рублей и вскоре за свои труды (ко всему прочему на его средства содержался соборный хор) удостоился всемилостивейшего пожалования золотой медали «За усердие» на станиславской ленте для ношения на шее…


Из дома Тараканова высокие гости и местные избранные – духовенство в праздничном облачении, чиновники в парадных мундирах с орденами, гражданские в нарядных платьях – собрались в доме покойного Осипа Осиповича, где было сказано много тёплых слов в адрес Сенькова, провозглашены многолетия его наследникам. Всё это время владыку сопровождал архиерейский хор, исполнявший «Боже, царя храни» и подобающие случаю церковные песнопения.

На следующий день в четверг – вязниковский базарный день, традиции которого сохранялись вплоть до досягаемых нашей памятью времён, состоялось освящение приделов в честь Феодора Стратилата (южного) и святой великомученицы Екатерины (северного). Площадь была переполнена народом, каждый стремился проникнуть в храм, где чин освящения владыка совершал в сослужении настоятеля Благовещенского монастыря Германа и трёх городских священников. Заключительным действом было поучение с амвона о храме Божием, которое сказывал соборный протоиерей о. Иоанн Павлушков.
После обеда в доме Сеньковых, архиепископ Антоний уехал во Владимир.
Так закончился один из примечательных в вязниковской истории эпизодов – освящение Никольского собора, осветлённое визитом первого епархиального пастыря. Иные из горожан и жителей окрестных сёл и деревень ни ранее, ни потом такого яркого и широкого события не видели.
В 1876 году совершено перенесение чудотворной иконы Казанской Божией Матери из летнего собора в новый зимний. Впервые с момента освидетельствования чудес от этой вязниковской святыни, образ покинул иконостас Казанского храма, где находился с 1624 года! Лишь дважды его вынужденно извлекали: во время спасения от пожара 1703 года и для обновления жемчужной ризы. Теперь же драгоценная икона с наступлением холодов перемещалась в новый Никольский собор, чтобы богомольцы могли прикоснуться к ней и в зимнее время, когда Казанский собор закрывался. Инициатором такого решения стал вязниковский купец и мировой судья Николай Никитин. Его имя было известно горожанам не менее имён строителя Сенькова и старосты Тараканова. Николай Львович также жертвовал на украшение собора: им приобреталась церковная утварь, и поправка жемчужной ризы на Казанской иконе в 1873 году состоялась как раз на его средства, когда часть жемчуга была жертвована щедротами купца-благотворителя.

Перенесение образа состоялось 22 февраля при большом стечении горожан и жителей округи, хотя о предстоящем торжестве отдельно не сообщалось. На руках настоятеля о. Иоанна Павлушкова и соборного священника о. Флегонта Лаврова святыня бережно перенесена в стены Никольского собора, где была оставлена до наступления тепла. Опустевшее место в иконостасе Казанского собора заменяли точной копией иконы – списком времён государя Михаила Фёдоровича, до того хранившимся в семье Никитиных (по существующему мнению именно эта копия чудотворного образа дошла до наших дней).
В дальнейшем перенесение Казанской иконы Божией Матери стало делом обычным, бывая дважды в год и становясь особенным событием в духовной жизни города. А тогда многими горожанами решение о перемещении святыни было встречено недовольством и кривотолками, ссылавшимися на её вековую неприкосновенность. Но они вскоре растворились в среде настроений благодарности за подаренную возможность поклонения древней вязниковской иконе в стенах нового тёплого храма.
Никольский собор, блистая на солнце крестами, простоял бок о бок со своим древним соседом – Казанским собором – до 1930-х годов. Располагался он на территории, занимаемой нынешним рынком, в западной его части, выходя папертью к Волшнику и Благовещенской улице. Интересно, что в некоторых сохранившихся документах, участие благотворителя Осипа Сенькова сильно принижено, где указывается возведение новой церкви на церковный капитал. Меж тем, участие Осипа Осиповича в деле возведения соборного зимнего храма известно и общепризнан тот факт, что новой церкви на Базарной площади без Сенькова вязниковцы могли не увидеть.
Зимняя соборная церковь встретила захват большевиками власти в октябре 1917-го, стойко пережила изъятие церковных драгоценностей в начале 1920-х и последующие аресты духовенства. Она стала свидетелем низвержения старинной соборной колокольни, потеряв при этом сначала свои кресты, потом все главы, а к концу 1930-х растаяла, разойдясь по городским улицам обломками кирпича (подробней ЗДЕСЬ).
Автор: .
По материалам
 424242
424242